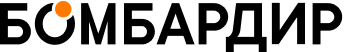«Спорт — ширма, скрывающая проблему, «болтовня», превращенная в раковую опухоль». Памяти Умберто Эко
Болтовня о спорте
Есть вещь, сделать которую—как бы важно это ни было—ни бастующие студенты, ни восставшие горожане, ни активисты движения глобального протеста никогда не смогут: оккупировать футбольное поле в воскресенье.
Сама по себе идея звучит иронично и абсурдно; расскажите о ней на публике, и вам рассмеются в лицо. Предложите ее всерьез, и вас будут избегать как провокатора. Не по той очевидной причине, что, пока толпа студентов будет швырять коктейли Молотова в полицейские джипы, из-за законов, потребности в поддержании национального единства и государственного престижа будет убито не более сорока студентов, а потому, что нападение на спортивную площадку неизбежно повлечет за собой кровавую расправу над напавшими, истребление всех их без разбора почтенными гражданами, объятыми ужасом и негодованием.
Вы можете оккупировать собор и получите протестующего епископа, каких-то возмущенных католиков, кучку одобряющих инакомыслящих, левых, сохраняющих нейтралитет, и втайне счастливых представителей традиционных светских партий. Или вы можете оккупировать штаб-квартиру одной из партий, и представители других партий, выразив солидарность или промолчав, решат, что им это на руку. Но если бы кто-то оккупировал стадион, то, помимо непосредственных контрмер, он столкнулся бы с несогласием со стороны всех и вся: церковь, левые, правые, государство, судебные органы, китайцы, бракоразводные бюро, анархистские объединения — все заклеймят нарушителей позором. Таким образом, существует глубинная сфера коллективной восприимчивости, к которой никому не позволено прикасаться, к каким бы убедительным доводам или демагогическим уловкам он не прибег. И существует нечто, служащее цементом глубинных структур социума, разрушение которого повлечет кризис всех сцепляемых им принципов, включая существование человека на Земле (по крайней мере в том виде, в каком он существовал на ней последние десять тысяч лет). Спорт есть человек, и спорт есть общество.

Но раз уж мы задумали внимательный пересмотр всех человеческих взаимоотношений, затронем и спорт. Именно он окажется глубочайшим корнем противоречивостей человека как общественного животного. Здесь общественные взаимоотношения обнаружат нечто, не являющееся человеческим. Здесь станет ясна обманчивая природа классического гуманизма, основанного на греческой антрополалии, основанной, в свою очередь, не только на созерцании, понятии полиса и примате делания, но и на спорте—как предумышленной растрате, как ширме, скрывающей проблему, "болтовню", превращенную в раковую опухоль. Говоря коротко—эта мысль будет пояснена ниже,—спорт представляет собой максимальное искажение "фактической" речи и таким образом, в конце концов, отрицание всякой речи, а следовательно, начало дегуманизации человека или "гуманистическое" открытие идеи человека, обманчивой изначально.
Спортивная деятельность подчинена идее "растраты". Любое спортивное действие — растрата энергии: если я швыряю камень просто ради удовольствия, а не в утилитарных целях, то я трачу калории, полученные через принятие пищи, средства на которую я добыл работой. Следует пояснить, что в данном случае это коренным образом здоровая растрата. Такой растратой сопровождается всякая игра (play), а для человека, как и для любого животного, игра является физической и психологической потребностью. Таким образом, существует рекреационная растрата—в ней мы не можем себе отказать: она дарует свободу, освобождает от тиранической необходимости работать. Если я швыряю камень, а рядом другой человек пытается швырнуть камень еще дальше, рекреация принимает форму "состязания"; то же происходит с растратой—как физической энергии, так и интеллектуальной, являющейся источником правил игры (game). Но эта рекреационная растрата обосновывает выигрыш. Гонки способствуют улучшению расы, состязания — развитию соревновательного духа и взятию его под контроль, они редуцируют врожденную агрессивность к системе, грубую силу—к интеллекту.
Но в этих определениях скрывается червь, подтачивающий самые корни такой деятельности: состязание дисциплинирует и нейтрализует заряд агрессии, как индивидуальный, так и коллективный. Оно редуцирует избыточную деятельность, но в действительности представляет собой механизм нейтрализации деятельности.
С этой двусмысленности "здоровья" ("здоровья", которое остается таковым до тех пор, пока вы не пересечете некую черту, за которой можно умереть от этих необходимых "дарующих свободу" упражнений; это как смех Маргутта, взрывающегося от избыточного здоровья) начинается деградация самого принципа состязания. Появляется выводок человеческих существ, предназначенных для соревнования. Атлет—существо с одним гипертрофированным органом, его тело превращено в площадку для непрекращающейся игры и в ее эксклюзивный источник. Атлет— монстр, он—человек, который смеется, гейша с раздавленными и атрофированными ногами, предмет тотальной инструментализации.

Но атлет как монстр возникает лишь в тот момент, когда спорт возводится в квадрат, а именно из игры, в которую играют (game played), превращается в своего рода рассмотрение игры или, скорее, в игру как спектакль для других и, следовательно, игру (game) как то, во что играют другие и что смотрю я. Спорт в квадрате равняется спортивному представлению.
Если спорт (которым занимаются)—это здоровье, подобно принятию пищи, то спорт, который смотрят,—это инструмент по вытягиванию здоровья. Когда я смотрю, как играют другие, я не делаю ничего полезного для здоровья, я лишь получаю смутное наслаждение, наблюдая за здоровьем других (что само по себе было бы грязным вуайеризмом, подобно наблюдению за тем, как другие занимаются любовью). На самом деле то, что приносит мне наслаждение, — это по большей части несчастья, которые постигнут тех, кто упражняется с пользой для здоровья, болезнь, которая подорвет это здоровье (как если бы кто-то наблюдал не за людьми, а за двумя занимающимися любовью пчелами, предвкушая сцену гибели трутня).
Несомненно, тот, кто смотрит спорт в исполнении других, приходит по мере просмотра в возбужденное состояние, он вопит и жестикулирует и таким образом выполняет физические и психологические упражнения, редуцирует свою агрессивность и дисциплинирует свой соревновательный дух. Но эта редукция не компенсируется—как в случае, когда кто-то сам упражняется в спорте,—возросшей энергией или приобретенным контролем и самообладанием. С другой стороны, ведь для атлетов соревнование — игра, а вуайеристы соревнуются всерьез (и действительно, они избивают друг друга или умирают от остановки сердца прямо на трибуне).

Что касается дисциплины соревновательного духа, в случае спорта как упражнения она имеет два аспекта: способствует росту человеческих качеств и их утрате. В случае же атлетического вуайеризма она имеет лишь один аспект—негативный. Тогда спорт оказывается тем же, чем он был на протяжении веков: instrumentum regni. Это вполне очевидно: circenses обуздывают неконтролируемые энергии толпы.
Но этот спорт в квадрате (включающий в себя ставки на тотализаторе и бартер, продажу и принудительное потребление) порождает спорт в кубе—обсуждение спорта как чего-то, что смотрят. Изначально это обсуждение, которое ведется спортивной прессой, но впоследствии оно порождает обсуждение самой спортивной прессы, то есть спорт, возведенный в n-ную степень. Обсуждение спортивной прессы представляет собой дискурс о дискурсе наблюдения за тем, как другие занимаются спортом.
Современный спорт поэтому, в сущности, представляет собой обсуждение спортивной прессы. Действительный спорт, отделенный от него несколькими измерениями, мог бы с тем же успехом не существовать вовсе. Если бы в результате какого-нибудь дьявольского сговора мексиканского правительства, председателя Эвери Брендеджа и всех в мире телевизионных сетей Олимпийские игры не состоялись, но их проведение ежедневно и ежечасно освещалось посредством трансляции фиктивных образов, ничего бы не изменилось в международной спортивной системе; не почувствовали бы себя обманутыми и участники спортивных обсуждений. Таким образом, в качестве практики, деятельности спорт больше не существует—или существует лишь в силу экономической целесообразности (ведь проще заставить бежать атлета, чем создать фильм с актерами, делающими вид, что они бегут); на самом деле существует только болтовня о болтовне о спорте. Болтовня о болтовне спортивной прессы оформляется в игру со своим полным набором правил: вам стоит лишь послушать воскресные утренние радиопередачи, сделанные так, будто это несколько собравшихся в парикмахерской горожан обсуждают спорт (в результате спорт возводится в n-ную степень). Либо вы можете пойти туда, где такие разговоры часто ведутся, и послушать их там.
Вы увидите, что в том, что касается вопросов, о которых все уже знают, оценки, суждения, аргументы, полемические замечания, способы клеветы и болельщицкие песни следуют некому вербальному ритуалу, очень сложному, но с простыми и точными правилами. В ходе этого ритуала интеллектуальные энергии по-своему "упражняются" и нейтрализуются; поскольку физические энергии уже и так вне игры, соревнование переносится на чисто "политический" уровень. Действительно, болтовня о спортивной болтовне имеет все признаки политических дебатов. Люди говорят о том, что лидеры должны были делать, что они сделали на самом деле, каких действий мы бы от них хотели, что случилось и что случится. Только предмет обсуждения—не город, не здание парламента с его коридорами, а стадион с его раздевалками. Тем самым такая болтовня выглядит пародией на политический разговор. Но поскольку данная пародия подчиняет дисциплине те силы, которыми гражданин располагал для политических дебатов, и делает их недействительными, то эта болтовня оказывается эрзацем политической речи, впрочем, эрзацем, доведенным до такой степени подобия, что он сам становится политической речью. Наконец, дальше двигаться некуда—ведь если бы человек, болтающий о спорте, не стал бы этим заниматься, он бы, по меньшей мере, осознал, что суждения, вербальная агрессивность, способность к политической борьбе могут ему как-то послужить. Но в результате болтовни о спорте у него создается убеждение, будто он уже потратил эту энергию на какие-то другие умозаключения. Успокоив его сомнения, спорт успешно выполняет свою роль ложного сознания.

И поскольку болтовня о спорте создает иллюзию интереса к спорту, понятия "быть спортсменом" и "говорить о спорте" смешиваются; болтун мыслит себя атлетом и уже не отдает себе отчета в том, что он не занимается спортом. И точно так же он не отдает себе отчета, что он уже и не мог бы им заниматься, ведь работа, которую он делает, когда не занят болтовней, утомляет его, поглощает одновременно его физическую энергию и время, необходимое для спортивной деятельности.
Эта болтовня—что-то вроде тех "толков", функцию которых Хайдеггер исследует в "Бытии и времени": Толки есть возможность все понять без предшествующего освоения дела. Толки уберегают нас уже и от опасности срезаться при таком освоении. Толки, которые всякий может подхватить, не только избавляют от задачи настоящего понимания, но формируют индифферентную понятливость, от которой уже ничего не закрыто… [У толков нет] намеренья обмануть. Толки не имеют образа бытия сознательной выдачи чего-то за что-то… Толки соответственно с порога, из-за свойственного им упущения возврата к почве того, о чем речь, суть замыкание.
Конечно, Хайдеггер не думал о толках или о болтовне как о чем-то полностью отрицательном: болтовня—это не использование нами языка для постижения чего-либо или совершения открытий, но, скорее, тот повседневный способ, каким нами говорит язык, предшествующий существованию. И это нормальное положение вещей. Здесь "представляет важность лишь то, что разговор (talk) есть". И тут мы подходим к той функции разговора, которую Якобсон называл фатической, — к функции установления контакта. Разговаривая по телефону (отвечая "да, нет, конечно, хорошо…") и на улице (спрашивая "Как ваши дела?" того, чье здоровье нас не интересует и кто, по сути, подыгрывает нам, отвечая: "Хорошо, спасибо"), мы осуществляем функционирование фатического дискурса, необходимого для поддержания постоянной связи между теми, кто говорит. Но фатический дискурс необходим именно потому, что благодаря ему поддерживается и остается в силе возможность других, более содержательных типов коммуникации. Если эта функция атрофируется, мы получим постоянный контакт без передачи каких-либо сообщений. Это словно слушать радиоприемник, который включен, но не настроен: фоновые шумы и помехи дают нам понять, что мы в действительности неким образом с чем-то коммуницируем, но приемник не позволяет нам узнать что-либо еще.

В таком случае болтовня—это фатический дискурс, превратившийся в самоцель. Но болтовня о спорте—это нечто большее, это непрекращающийся фатический дискурс, выдающий себя за разговор Города (City) в Целях города.
Возникнув в результате возведения в n-ную степень изначальной (и рациональной) растраты, то есть спорта как рекреационной деятельности, болтовня о спорте стала прославлением Растраты и тем самым апогеем Потребления. Слушая ее и участвуя в ней, существуя внутри потребительской цивилизации, человек потребляет самого себя, а так- же всякую возможность тематизировать или поставить под вопрос то принудительное потребление, к которому он приглашается и которому одновременно подлежит.
Будучи пространством тотального неведенья, болтовня о спорте формирует идеального гражданина, делая это столь основательно, что в крайних случаях (а таких много) он отказывается обсуждать, почему его время изо дня в день заполнено пустыми обсуждениями. И поэтому ни один политический призыв не мог бы оказать воздействие на эту практику, которая сама является тотальной фальсификацией любых политических отношений. Ни один революционер не осмелился бы начать революцию против заполняющей все болтовни о спорте; гражданин поглотил бы протестное движение, превратив его лозунги в болтовню о спорте или внезапно, с отчаянным недоверием отвергнув навязывание разума своим разумным выполнением высокорациональных вербальных правил.
Таким образом, мексиканские студенты погибли ни за что. Похоже, итальянский спортсмен поступил разумно, произнеся эти благородные слова: "Если бы они продолжили убивать, я бы отказался прыгать". Но не было уточнено, сколько еще им нужно было убить, чтобы он не прыгнул. И если бы он в конечном счете не стал прыгать, это го бы хватило, чтобы начались разговоры о том, что было бы, если бы он прыгнул.
1969 год
По материалам ecsocman.hse.ru. Перевод с английского Даниила Аронсона.